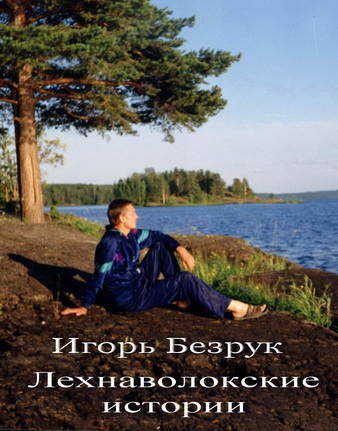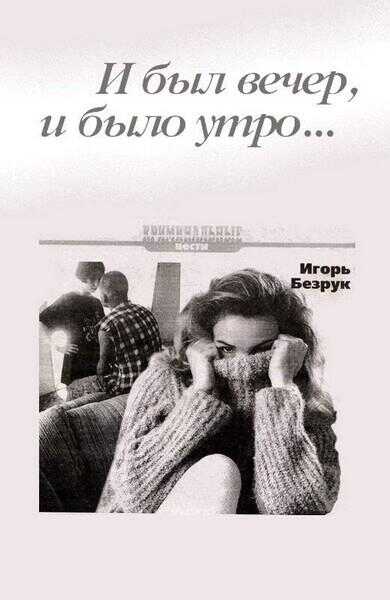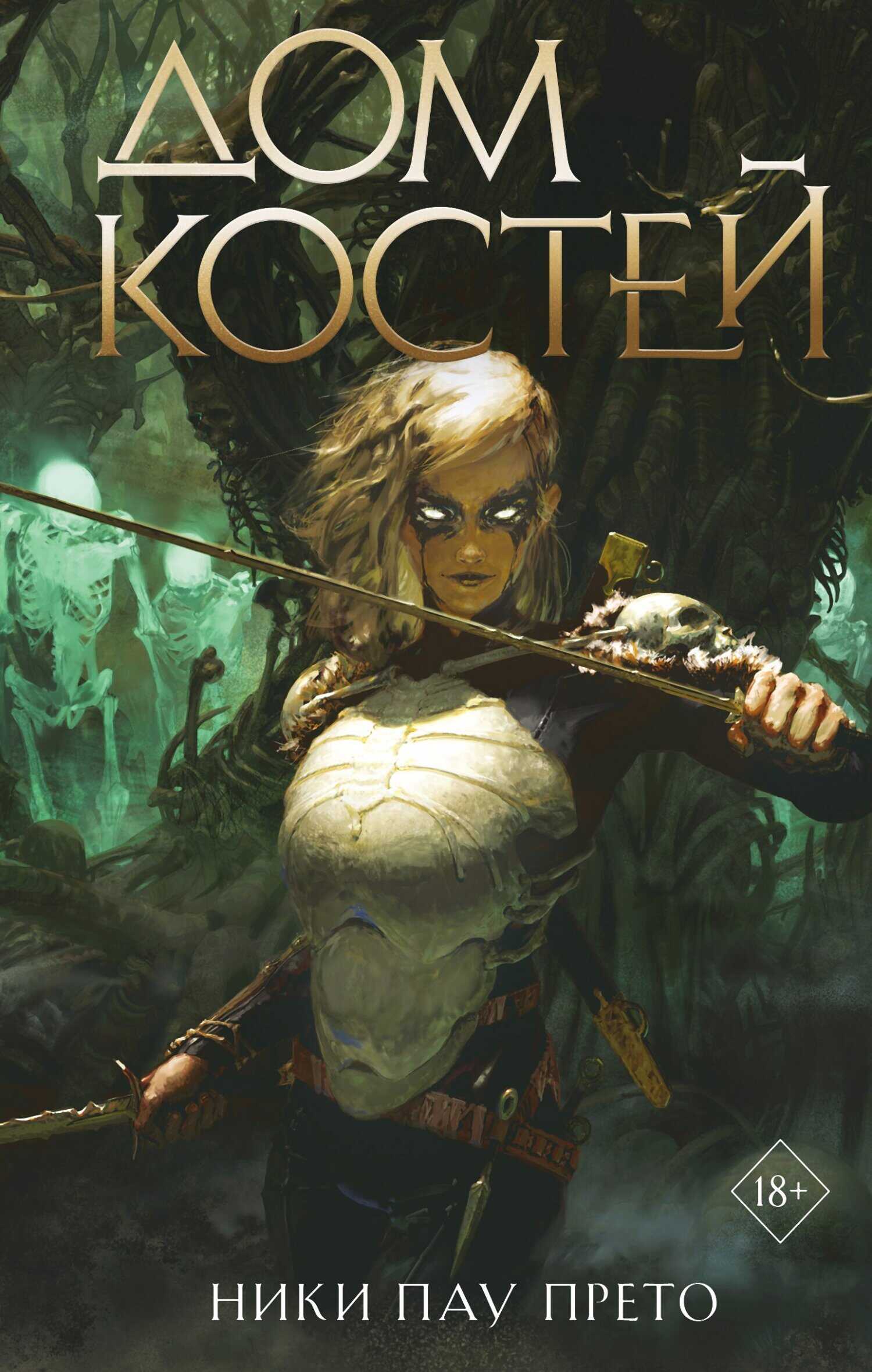Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Конец 90-х. Маленький человек с большим открытым сердцем пытается выжить.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Игорь Анатольевич Безрук»: